Ум это когда женщине не надо раздеваться чтобы нравиться, Маша и медведь: женские недостатки, от которых мужчины без ума
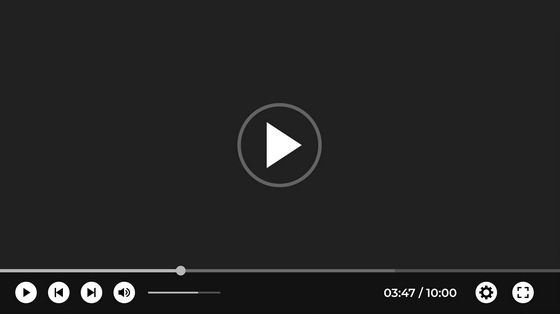
Я не могла поехать: предстояло турне с Кобзоном. Очень жалела его потом. Не слышит. Да ради всего святого!
Оба были с рюкзаками, Артем в холщовой панаме, Георгий в брезентовой солдатской, которая придавала ему военно—авантюрный вид. Почти на том же месте, что и накануне, они снова увидели мать с дочерью, те опять были одеты в одинаковую одежду, но на этот раз женщина, сидя на маленьком складном стульчике, рисовала на каком—то детском мольберте. Заметив их с дороги, Георгий крикнул, не купить ли им чего на базаре, но легкий ветерок отнес его слова в сторону, и женщина показала ему рукой, что не слышит.
Георгий с удовольствием смотрел вверх: трава была еще молодая, свежая, на взлобке холма дымился розово—лиловый тамариск, совсем безлиственный. Женщина что—то говорила Артему, потом махнула рукой и сбежала вниз, но не там, где поднимался Артем, а чуть выше, где склон обрывался над дорогой круто и трудно было спуститься на дорогу.
Можно было разговаривать и оттуда, но ей почему—то хотелось спуститься, она замерла над маленьким обрывом. Георгий протянул ей руку:.
Она присела на корточки и, держась за его руку, спрыгнула. Лицо ее было испуганным и серьезным. Руки ее на ощупь оказались детскими, какими—то птичьими, но удивительно нежными. И ростом она оказалась не такая уж маленькая, доставала ему до плеча, как и жена Зоя.
Два кило, пожалуйста. Мне Таню оставить не с кем, а она туда не дойдет, устанет. И укропу пучок. Только у меня денег с собой нет. Она поднималась к дочке, стоявшей рядом с мольбертиком, сердце ее мчалось галопом, отдаваясь в горле. Она поднялась на холм и увидела, как все изменилось за те несколько минут, что она спускалась к дороге: солнце наконец пробило блестящую дымку и тамариски, которые она пыталась нарисовать, уже не поднимались розовым паром, а плотно, как клюквенный мусс, лежали на гребне холма.
Ушла вся нежная неопределенность пейзажа, а место, на котором она стояла, показалось ей вдруг тем неподвижным центром, вокруг которого и происходят движения миров, звезд, облаков и овечьих отар. Но эта мысль не успокоила ее колотившееся сердце, оно все неслось куда—то, обгоняя само себя, а взгляд независимо от нее впитывал округу, чтобы ничего не упустить, не забыть ни одной черты этого мира.
О, если бы она могла, как в детстве, когда увлекалась ботаникой, сорвать и засушить, как приглянувшийся цветок, это мгновение вместе со всем принадлежащим ему реквизитом: дочкой возле мольберта, криво установленного в центре мироздания, цветущим тамариском, дорогой, по которой не оглядываясь идут два путника, и то, что открывалось впереди: горы, далекий лоскут моря, складчатая долина с бороздой давно ушедшей реки.
И то, что было за ее спиной, и то, что не входило в окоем; позади горбатых, состарившихся на этом месте холмов — столовые горы, аккуратные, с отсеченными вершинами, вытянувшиеся одна за другой, как послушные животные…. Родиной Валерия Бутонова было Расторгуево. Он жил со своей матерью Валентиной Федоровной в приземистом частном доме, давно грозившем развалиться.
Отца не помнил. Мальчиком он был уверен, что отец погиб на фронте. Мать не особенно на этом настаивала, но и легенды не разрушала. Недолгий муж Валентины Федоровны еще до войны нанялся по контракту куда-то на Север, прислал оттуда одно незначительное письмо и навсегда растворился в заполярных далях. Все свое долгое детство Валера, как и большинство его сверстников, провел, вися на хлипких заборах или вбивая в стоптанную пригородную землю трофейный перочинный нож, главную драгоценность жизни.
В занятии этом ему не было равных, все царства и города, разыгрываемые на вытертой площадке позади автобусной станции, он брал своим ножом легко и весело, как Александр Македонский. Соседские ребята, убедившиеся в его полном превосходстве, перестали играть с ним, и он проводил многие часы во дворе своего дома, засаживая ножичек в бледное бельмо спиленной нижней ветки огромной старой груши и отступая при этом все дальше и дальше от цели.
За эти долгие часы он постиг мгновенье броска, знал его наизусть и кистью и глазом и испытывал наслаждение от огненного мгновенья этого соотнесения руки с ножом и желанной точки, завершавшееся дрожанием черенка в сердцевине цели. Иногда он брал другой нож, тяжелый, кухонный, и выбирал другую цель, и нож с хрустом, или со стоном, или с тонким свистом входил в нее.
Старый материнский дом, и без того ветхий, был весь в шрамах от его мальчишеских упражнений. Но совершенство оказалось скучным, и он забросил ножи. Новые возможности открылись, когда он перешел из начальной школы в новую десятилетку, где было много диковинного: писуары, фарфоровые раковины, чучело совы, картина с голым, без кожи, человеком, стеклянные чудесные посудинки, железные приборы с лампочками.
Но любимым и самым притягательным местом стал хорошо — по тем временам — оборудованный спортивный зал. Перекладина, брусья и кожаный конь стали его любимыми предметами с пятого класса. В нем открылась античная телесная одаренность, столь же редкая, как музыкальная, поэтическая или шахматная. Но тогда он не знал, что его талант ценится ниже, чем дарования интеллектуальные, и наслаждался успехами, все более заметными с каждым месяцем. Преподавательница физкультуры направила его в секцию ЦСК, и к Новому году он уже участвовал в первых соревнованиях.
Тренеры изумлялись его феноменальной хватке, врожденной экономности движений и собранности — он сразу приходил к результатам, которые обыкновенно вытаптываются годами. К четырнадцати годам он был замечательно сложенный юноша, с правильным лицом, коротко, по спортивной моде, остриженный, дисциплинированный и честолюбивый. Он состоял в юношеской сборной, тренировался по программе мастеров и нацеливался на предстоящих всесоюзных соревнованиях занять первое место.
Он не знал важных вещей, прекрасно известных его тренеру: тайной механики успеха, высоких покровительств, судейских зажимов, бесстыдства и продажности в спорте.
Две десятые балла, отодвинувшие его на второе место, показались ему столь жестокой несправедливостью, что он, скинув с себя в раздевалке бесплатное цээсковское барахлишко, поехал в Расторгуево в школьных брюках на голое тело.

Один из его старших сотоварищей — Бутонов был в сборной самым юным — раскрыл ему тайную сторону этого несправедливого поражения.
Это был сговор, и тренер был припутан. Того, кто получил первенство, тренировал зять главы федерации, и судейская коллегия была предвзята — не то чтобы купленная, но связанная по рукам и ногам. Теперь Валерий и сам прозрел. Начались летние каникулы, ни на какие сборы он не поехал. Целыми днями он лежал под грушей, все обдумывая, как так произошло то, что произошло, и получил через неделю откровение: нельзя ставить себя в положение зависимости от других людей или от обстоятельств.
Окажись над ним смоковница, может быть, откровение имело бы более возвышенный характер, но от русской груши большего ждать не приходилось.

Через две недели он был зачислен в цирковое училище. Какое же это было чудо! Каждый день Бутонов приходил на занятия — и каждое утро испытывал восторг пятилетнего мальчика, впервые приведенного в цирк. Учебный манеж был вполне настоящий: так же пахло опилками, животными, тальком.
Шары, разноцветные кегли и стройные девушки летали в свободном воздухе. Это был особый, единственный в своем роде мир — вот что чувствовал Бутонов каждой клеткой своего тела. О соревновании не могло быть и речи, каждый стоил столько, сколько стоила его профессия: воздушный гимнаст не мог плохо работать, он рисковал жизнью.
Никакое родство с начальством не могло остановить медведя, когда он, со своей неподвижной, совершенно лишенной мимики мордой, встав на дыбы, шел ломать дрессировщика могучими лапами и чугунными когтями драть с него мясо.
Никакая поддержка сверху, никакой телефонный звонок не помогали крутить обратное сальто. Он не смог бы сам до конца это сформулировать, но глубоко понимал, что на вершине мастерства, в пространстве абсолютного владения профессией, располагается крошечная зона независимости. Там, на вершине Олимпа, находились звезды цирка, свободно пересекающие границы стран, одетые в невообразимо прекрасную одежду, богатые, независимые. Цирковое училище и по сей день вспоминает Бутонова.
Всю цирковую науку он осваивал играючи — акробатику, жонглирование, эквилибр, и каждая из этих наук претендовала на Бутонова. В гимнастике ему не было равных. С первых же месяцев учебы его звали в готовые номера. Он отказывался, потому что уже точно знал, кем он хочет быть — воздушным гимнастом. Все, что он ни делал, он соизмерял с броском ножа, со знакомым ему с детства мгновением истины — дрожанием черенка ножа в сердцевине цели….
Учителем Бутонова был теперь немолодой циркач смутной крови из цирковой династии, с внешностью и повадками плебейского коробейника, но с итальянским именем Антонио Муцетони. По-простому звали его Антоном Ивановичем. Родился он в трехосном фургоне, на линялой сине-красной попоне шапито, по дороге из Галиции в Одессу, от наездницы и акробата.
Многие глубокие морщины вдоль и поперек покрывали его лицо и были столь же затейливы, как и многочисленные истории, которые он о себе рассказывал. К концу второго года обучения Бутонов сильно преуспел в знаниях, умениях и красоте.
Он все более приближался к собирательному облику строителя коммунизма, известному по красно-белым плакатам, нарисованным прямыми линиями, без затей, горизонтальными и вертикальными, с глубокой поперечной ямкой на подбородке. Некоторая недоработка намечалась в малоприметной утиной вытянутости носа к кончику, но зато разворот плеча, неславянская высота ног и невесть откуда взявшееся благородство рук… и при всем этом неслыханный иммунитет к женскому полу.
А цирковые девочки, как прежде школьные, липли к нему. Все здесь было так обнаженно, так близко: выбритые подмышки и паховые складки, мускулистые ягодицы, маленькие плотные груди.
Его сверстники, юные циркачи, наслаждались плодами сексуальной революции и артистической свободы, процветающей на задних дворах социализма, в оазисе Пятой улицы Ямского Поля, а он смотрел на девочек брезгливо и насмешливо, как будто дома, в Расторгуеве, поджидала его каждый вечер на продавленном диване сама Брижит Бардо.
Антон Иванович вводил его в программу своего сына. Джованни — Ваня, хотя и не обладал талантом отца, был отцовской выучки, с малолетства летал под куполом цирка, крутил свои сальто, но истинной страстью его были автомобили. Заботливо подложив под свою дорогостоящую спину старое одеяло, он часами пролеживал под машиной, а его злая блядовитая жена Лялька язвила:. С отцом у младшего Муцетони отношения были непростые.
Много лет они работали вместе, Антон Иванович побил все рекорды циркового долгожительства под куполом, осваивал одним из первых самые рискованные трюки. Ваня же был спокоен и неинициативен. Однажды в присутствии Бутонова Антон Иванович сказал с раздражением:.
Эта часть профессии была чрезвычайна важна: работали они под куполом, и хотя страховка была двойная — лонжи, пристегнутые к поясам карабинами, и сетка, — разбиться можно было и об сетку. Младший Муцетони был виртуозом падения, старший, по своей природе, первопроходцем. Когда-то он был первым, кто освоил тройное сальто с пируэтом, и только один гимнаст, Н.
Сейчас, когда все цирковые готовились к большому цирковому фестивалю в Праге, Антон Иванович приступил к сыну как с ножом к горлу: восстановить тот старый номер, с которым он прославился еще до войны.
С неохотой подчинился Джованни отцу — заставил-таки его старик работать с полной отдачей. У Валерия, постоянно присутствующего на репетициях, просто мышцы дрожали — так хотелось ему себя попробовать в этом длинном и сложном полете, но Антон Иванович и говорить об этом не хотел.
Держал его в паре с племянником Анатолием, делали они встречные полеты синхронно, четко, но этим никого нельзя было удивить — все воздушные гимнасты этот номер работали. Подготовка была длинной, репетиции заняли полгода, но наконец настал день, когда поехали в Измайлово, в Центральную дирекцию, сдавать программу художественному совету.
Решалась поездка в Прагу — для Бутонова первый выезд за рубеж. В дирекции стояла большая суматоха — съезд цирковых звезд и циркового начальства. Все нервничали. Время уже близилось к показу, Антон Иванович полез наверх, осмотреть крепеж, который частично был за куполом, и дотошно проверял каждую гайку, каждый болт, прощупывал тросы.
Инспектором манежа был старый его конкурент Н. Ване была отведена отдельная уборная, Валерию с Толей — другая, в третьей разместились женщины, их было трое: две молодые гимнастки и двенадцатилетняя Нина, дочь Вани, несомненная будущая прима.
Артисты уже надевали малиновые с золотыми звездами трико, когда Валерий услышал из коридора ругань: какой-то въезд был перекрыт Ваниной машиной, фура не могла проехать. Ваня что-то отвечал, голос что-то требовал. Анатолий подошел к двери, послушал:. Валерий, не вмешивающийся в чужие дела, даже не выглянул. Все затихло. Через несколько минут в их уборную постучали, всунулась Нина:.
Грим был обыкновенный, как всегда: желтовато-розовая основа, а на ней два нежно-малиновых крылышка искусственного румянца да густообведенные синим, подтянутые к вискам глаза.
Валерий развернулся, вышел в коридор; из двери Ваниной гримуборной вышел седой человек в комбинезоне и клетчатой шотландской рубашке. Валерий не обратил тогда на это внимания и вспомнил об этой встрече в коридоре значительно позже. Через десять минут был выход. Все шло точно, было разыграно по секундам: вырубка музыки, свет, прыжок, вырубка света, толчок, трапеция, дробь, пауза, музыка, свет… Партитура была вытвержена, даже до вдоха-выдоха, и все шло отлично.
Джованни в этом номере берегся, стоял враспор, под куполом, на верхотуре, как бог, держал на себе свет, пока молодежь порхала. Не все члены художественного совета видели этот номер, он уже лет десять не исполнялся. В режиссуре старый Муцетони очень понимал, все обставил эффектно: свет гибкий, плавает, музыка поддерживает, потом разом — полный обрыв, весь свет на Джованни, под купол, арена в темноте, вырубка музыки на самом максимуме звучания.
Джованни весь блестит, голова в золоте, на ногах — поножи: хороший художник ему придумал такую обувку, чтобы скрыть врожденную кривоногость. Тихая дробь. Джованни вскидывает золотую голову — демон, чистый демон… Мгновенное движение руки к поясу — проверка карабина. Валерий ничего не заметил, а у Антона Ивановича чуть сердце не остановилось — слишком долго он карабин проверяет, что-то не так… Но пока все во времени, без опоздания.
Дробь смолкла. Раз, два, три… лишняя секунда… трапеция уходит назад… замерла… толчок… прыжок… Джованни еще в полете, и никто еще ничего не понял, но Антон Иванович уже видит, что группировка не завершена, что не докрутит он последнего переворота… точно…. Толя вовремя посылает ему трапецию, но Ваня мажет сантиметров на двадцать, не успевает, тянется в полете за трапецией, пытается догнать — чего никогда не бывает — и вылетает из отработанной геометрии, летит вниз, к самому краю сетки, куда приземляться опасно, где натяжение всего сильнее — тряхнет, сбросит… Об край… точно….
Сетка спружинила, подбросила Ваню — не наружу, внутрь, внутрь. Умеет все-таки падать… Провал, конечно, провал… но не разбился…. Но — разбился. Опустили сетку. Первым подскочил Антон Иванович, схватился за карабин — собачка была ослаблена. Он тихо выругался. Ваня был жив, но без сознания. Травма тяжелая — череп, позвоночник? Положили на доску. Повезли в лучшее место по черепным травмам — в Институт Бурденко.
Антон Иванович поехал с сыном. Валерий увидел своего мастера только через две недели. Известно было, что Ваня жив, но неподвижен. Врачи колдовали над ним, но не обещали, что поднимут на ноги. Антон Иванович исхудал так, что стал похож на борзую. Черная мысль не покидала его: он не мог объяснить себе, как случилось, что Ваня заметил ослабевший карабин только перед самым прыжком.
Про себя он знал, что его такой случай не сбил бы, смог бы нервы удержать. То есть я из коридора видел, как он оттуда выходил. К этому времени Валерий уже знал, что человек в шотландской рубашке и был инспектор манежа Н. Валерий навестил Ваню в госпитале. Тот был в гипсе, как в саркофаге, — от подбородка до крестца. Волосы поредели, две глубокие залысины поднялись ото лба вверх. Моргнул — привет. Почти не разговаривал. Валерий, проклиная себя, что пошел, просидел минут десять на белой гостевой табуретке, пытался что-то рассказать.
Бе-ме — и замолчал. Он не знал до этого, как хрупок человек, и ужасался. Стояла глухая мокрая осень. Расторгуевская груша облетела, стала черная, как будто горелая, и не мог Бутонов полежать под ней, послушать, не явится ли ему новое откровение.
До окончания училища оставалось полгода. Прага, на которую Бутонов огромные надежды возлагал, пролетела. Пролетало и училище. Тусклые Ванины глаза не выходили из головы Валерия. И так все рухнуло, в один миг. Не было, оказывается, никакой независимости — одна видимость. И неподвижное инвалидство до самой смерти…. Зимнюю сессию, последнюю, Бутонов сдавать не пошел.
Были в училище кроме специальных обыкновенные школьные предметы, и диплом без сдачи этих презренных наук не давали.
Бутонов вообще больше не пошел в училище. Полгода пролежал на диване, ожидая повестки в армию. В феврале ему исполнилось восемнадцать, и в начале мая его забрили.
Предложили сначала идти в ЦСК — сработал его первый разряд по гимнастике, но он, к большому изумлению военкома, отказался. Все Бутонову было безразлично, но в спорт возвращаться он не хотел.
Пошел как все…. Вернулся он в Расторгуево через три года, прибавив восемь килограммов весу и три сантиметра росту, и дембель его был аккуратен, без затяжек, почти день в день. И что самое существенное, он опять точно знал, что ему надо делать. Наскоро и без труда он получил в экстернате диплом об окончании школы и в то же лето был зачислен в Институт физкультуры. Всех перехитрил — на лечфак. Настоящий учитель встретился Бутонову в институте, на третьем курсе.
Это был мелкий, неказистый человек, из кавэжэдистов, с маскировочной фамилией Иванов, с темным и извилистым прошлым. Родился он, как сам говорил, в Шанхае, знал в совершенстве китайский, годами жил в Индии, посещал Тибет и представлял в нашей полу-Европе таинственную Азию. Он знал толк в восточных единоборствах, которые тогда только входили в моду, и преподавал китайский массаж.
Иванов восхитился необыкновенным бутоновским чутьем к телесности; в пальцах его было много независимости и ума, он мгновенно схватывал, где смещение дисков, где гребешок отложения солей, где просто мышечная контрактура. Если бы Бутонову хватало слов и определенной гуманитарной культуры, он мог бы рассказать о бодром настроении спины, о радости ног, об уме пальцев, так же как и о лени в плечах, нерасположенности к усилиям бедер или сонливости рук, и все эти особенности жизни тела в данный момент он умел распознавать в лежащем перед ним на массажном столе человеке.
Иванов пригласил его в гости в полупустую однокомнатную квартиру, увешанную тибетскими иконами. Но к области духа Бутонов оказался совершенно глух. Учитель был разочарован. Зато практическую йогу и китайский точечный массаж Бутонов освоил очень быстро и со всеми нюансами.
Сам Иванов имел в те годы большой успех не только как великий массажист, услугами которого пользовались разные редкие знаменитости — чемпион мира по поднятию тяжестей, гениальная балерина, скандальный писатель. Он участвовал в разных семинарах на дому — изысканных развлечениях тех лет, — вел специальные занятия по йоге. Он и Бутонова привлек к своей деятельности, по крайней мере к той ее части, которая видна была с поверхности.
К другой, осведомительской, стороне его деятельности Бутонов был непричастен и только через многие годы вообще смекнул, какие погоны невидимо лежали на учительских плечах. Учитель произвел Бутонова в помощники. Он вел любителей йоги, своих слушателей, высоким путем освобождения прямо в мокшу, а Бутонов корячился на коврике, обучая их позе лотоса, льва, змеи.
Одна из групп собиралась в большой квартире большого академика, у академической дочери. Участники собрания все, как один, были сделаны из тестообразной плоти, и Бутонов должен был обучить их тому самочувствию тела, в котором сам так преуспел.
Все они были ученые — физико-химико-математики, и Бутонов испытывал ко всем совершенно необъяснимое чувство легкого презрения. Среди них была высокая полная девушка Оля, математик, с тяжелыми ногами и грубоватым лицом, которое из нежного природно-розового во время упражнений становилось угрожающе красным. Через два месяца после знакомства, к неодобрительному изумлению друзей с обеих сторон, они поженились. Хозяйка квартиры, узнав о намечающемся брачном союзе, щелкнула языком:.
Но Оля с ним ничего особенного не делала. Она была человеком довольно холодным и головным: к этому времени она уже защитила диссертацию по топологии — заповедной области математики, и ювелирная умственная работа была главным содержанием ее жизни. Валерий не испытывал особого почтения к маленьким крючкам, которые, как птичьи следы на снегу, покрывали бумаги на женином столе, он только хмыкал, глядя на лист, покрытый мелкими значками и редкими человеческими словами с левой стороны: определение, пример, предложение, задача….
Характер у Ольги был покладистый, немного вялый. Валерий бесконечно удивлялся ее малоподвижности и бытовой лени: она ленилась делать даже те несколько йоговских упражнений, которые избавляли ее от запоров.
Валентина Федоровна, Валерина мать, невестку невзлюбила, во-первых, за то, что она была четырьмя годами его старше, а уж во-вторых — за бесхозяйственность. Но Оля только равнодушно улыбалась и даже, к досаде Валентины Федоровны, этого нерасположения просто не замечала. Супружеские радости были весьма умеренными. Валерий, с детства устремленный к мускульным удовольствиям, совершенно упустил из виду ту небольшую группу мышц, которая ведает сугубыми наслаждениями.
Естественно, за достижения в этой области не присуждали разрядов, не включали в сборные, и его инстинкты отступали перед юношеским тщеславием. Была еще одна причина, способствующая его удивительной сдержанности по отношению к женщинам: они влюблялись в него с той самой минуты, как на него надели первые штанишки, облако их изнурительной влюбленности преследовало его, а в более старшем возрасте он стал ощущать этот постоянный интерес как посягательство на его тело и отчаянно оберегал свое лучшее достояние, и ценность его собственного тела еще более подчеркивалась удивительной доступностью женских прелестей и множеством предложений.
Все было спокойно и складно в бутоновской семейной жизни. Поженились они спустя три месяца после Ольгиной защиты диссертации, еще через три месяца она забеременела, а за три месяца до своего тридцатилетия родила дочку. Покуда она носила, рожала и кормила большой и маломощной, с продовольственной точки зрения, грудью очень маленькую девочку, родившуюся от двух таких крупных родителей, Бутонов закончил институт и продался теннисистам.
Он следил за здоровьем самых здоровых людей планеты, лечил их травмы, разминал мышцы. В свободное время он делал то же самое, но уже частным образом. Зарабатывал хорошие деньги, был независим. Круг пациентов он получил от учителя, и все двери для него были открыты: от ресторана ВТО до цековской билетной кассы.
Через год большой теннис вывез-таки его за границу, сначала в Прагу — добрался до нее Бутонов! Это все, о чем можно было мечтать.
К чести Бутонова надо сказать, что свои высокие гонорары брал он за дело. Он поддерживал тела своих подопечных — спортсменов, балерин и артистов — в безукоризненной форме, но кроме того, он занимался тяжелой посттравматической реабилитацией.
Про него говорили, что он совершает чудеса. Легенда о его руках росла, но сам он, хорошо зная ей цену, работал, как когда-то в спорте, на границе своих возможностей, и граница эта мало-помалу отодвигалась. Лучшим своим достижением он считал безнадежного Ваню Муцетони, с которым работал с тех самых пор, как Иванов показал ему первые приемы и подходы к позвоночнику. Бутонов не раз привозил к Муцетони Иванова, Иванов присылал как-то великого китайца, прижигавшего Ванину спину пахучими травными свечами.
Но главная работа была бутоновская: шесть лет подряд два раза в неделю, почти без пропусков, он шаманил над Ваниной спиной, и тот встал, мог пройти по квартире, опираясь на специальный снаряд, и медленно, очень медленно стал восстанавливаться. Как-то в середине октября он приехал к Муцетони хмурый, не в настроении, полтора часа отработал с Ваней и собрался уходить — без чаю-кофе, как было заведено.

Ванина жена Ляля его задержала, принесла чай, разговорила. Бутонов пожаловался, что назавтра ему надо ехать в дурацкую поездку — в никому не нужный город Кишинев, на показательные выступления с группой спортсменов. Не слыхал? Старый страшенный цыган, а Розка — наездница. Город был невзрачный, лишенный даже намека на архитектуру, по крайней мере в той части, которая открывалась Валерию в утреннем, тающем на глазах тумане.
Но воздух был хороший, южный, с запахом сладких гниющих на земле плодов. Запах приносился откуда-то издали, потому что на улицах новой застройки не было никаких деревьев, только красные и багровые астры, целиком ушедшие в цвет и не имеющие никакого аромата, росли из прямоугольных газонов, обложенных бетонными плитами.
Было тепло и курортно. Валерий дошел до базара. Возы и арбы, лошади и волы запрудили небольшую площадь, невысокие мужики в теплых меховых шапках и в вислых усах таскали корзины и ящики, а бабы устраивали на прилавках горки из помидоров, винограда и груш.
Автобус был пустой. Валерий сел в него, через несколько минут в кабину влез водитель и, ни слова не говоря, тронул.
Дорога довольно долго шла по пригороду, который все хорошел, мимо мазаных домиков, садов, маленьких виноградников. Остановки были частыми, по пути набились дети, потом все разом вышли возле школы.
Почти через час добрались до конечной остановки в странном промежуточном месте — не городском и не деревенском. Валерий еще не знал, какой важный день в его жизни начался сегодня утром, но почему-то прекрасно запомнил все несущественные подробности. Два маленьких заводика стояли с обеих сторон дороги и дымили, совершенно пренебрегая законами физики, согласно которым ветер должен был бы относить их сивые дымки в одном направлении, а они почему-то дымили в лицо друг другу.
Наблюдательный Бутонов пожал плечами. Вдоль дороги рядами выстроились теплицы, и это тоже было странно: на черта здесь теплицы , когда в конце октября двадцать градусов и без стекол все отлично поспевает…. Дальше вдоль дороги стояли хозяйственные постройки и конюшня. Туда и направился Бутонов. Издали он увидел, как открылись ворота конюшни, проем наполнился бархатной чернотой и из него, скаля белые зубы, вышел высокий черный жеребец, который от неожиданности показался Бутонову огромным, как конь под Медным всадником.
Но никакого Медного всадника не было и в помине, жеребца вел в поводу маленький кудрявый мальчишка, который при ближайшем рассмотрении оказался молодой женщиной в красной рубахе и грязных белых джинсах. Сначала Валерий обратил внимание на ее сапоги — легкие, но с толстым носком и грубым запятником, очень правильные сапоги для верховой езды, — а потом он встретился с ней глазами.
Глаза ее были зеркально-черными, грубо удлиненными черной краской, взгляд внимательный и недоброжелательный. Все остановились. Жеребец коротко заржал, она похлопала его по холке ярко-белой рукой с длинными красными ногтями.
Она соскочила на землю, взяла пакет, кинула его в распахнутые ворота конюшни и, сверкнув зубами, не улыбнувшись, скорее — оскалившись, быстро спросила:. Я занята сейчас, — помахала рукой, вскочила на лошадь и, гикнув, с места ударилась в галоп.
Он смотрел ей вслед, испытывая раздражение, восхищение и еще что-то, в чем ему предстояло долго разбираться. Так или иначе, это был последний день в его жизни, когда он еще совершенно не интересовался женщинами. Вечером Валерий долго лежал в гостиничной пахнущей стиральным порошком койке, вспоминал наглую цыганку, ее великолепного жеребца и небольших редкопородных желтых лошадок, которых наблюдал в загоне за конюшней, ожидая на остановке автобуса.
Он приподнялся с подушки. Дверь, как оказалось, он забыл запереть, она медленно открылась, и в номер вошла женщина. Валерий молчал, вглядываясь. Подумал сначала, что горничная. Она снимала те самые сапоги, которые он про себя утром одобрил.
Сначала наступила на задник левого и сбросила его, потом стащила руками правый с некоторым усилием и отбросила его в угол. И еще успел подумать, что ему совершенно не нравятся такие маленькие и острые женщины. Она стянула с себя белый свитер, тот самый, подарочный, расстегнула кнопку на грязных белых джинсах и, не снимая их, нырнула под одеяло, обняла его и сказала голосом трезвым и усталым:. Валерий выдохнул воздух и навсегда забыл, какие же это женщины ему обыкновенно нравились….
Все, что он о ней узнал, он узнал позже. Была она вовсе не цыганка, а еврейка из питерской профессорской семьи, ушла к Сысоеву семь лет тому назад, дочку ее от первого брака воспитывают ее родители и ей не доверяют.
Но самое главное и поразительное было то, что к утру он обнаружил, что в свои неполные двадцать девять лет он пропустил целый материк, и непостижимо было, как удалось этой тщедушной девчонке, такой горячей снаружи и изнутри, погрузить его в себя до такой степени, что он казался самому себе тающим в густой сладкой жидкости розовым леденцом, а вся кожа его стонала и плавилась от нежности и счастья, и всякое касание, скольжение проникало насквозь, в самую душу, и вся поверхность оказывалась как будто в самом нутре, в самой глубине.
Он ощущал себя вывернутым наизнанку и понимал, что, ни заткни она ему тонкими пальчиками уши, душа его непременно вылетела бы вон…. В шесть часов утра диковинные часики, не снятые с ее руки, слабо чирикнули. Она сидела на подоконнике, обняв ногами его поясницу. Он стоял перед ней и видел, как оттопыривается ниже ее пупка бугорок, обозначающий его присутствие. Он погладил пальцами ее зубы.
Она пошла в душ. Ноги у нее были кривоваты и не очень ловко вставлены. Но желание только накалялось. Он вынул из переворошенной постели порванные золотые цепочки, соскользнувшие ночью с ее шеи. Вода ревела в душе, он перебирал пальцами цепочки и смотрел в окно. Был тот же блестящий туман, что и вчера, и солнце угадывалось за его тающим блеском.
Покрытая крупными каплями воды, она вошла в комнату. Он протянул ей цепочки. Она взяла их, распустила во всю длину и кинула на стол:. Она стряхнула с маленькой груди остатки воды, с трудом натянула на узкое мокрое тело джинсы. Несколько маленьких, жестких даже на вид шрамов, уже волнующих и любимых, отмечали ее тело под грудью, с левой стороны живота и на правом предплечье. Кажется, она была совершенно неженственной. Но все женщины, которых он знал прежде, в сравнении с ней казались не то манной кашей, не то тушеной капустой….
Мы встретимся с тобой ровно через неделю на Центральном почтамте в Питере. Между одиннадцатью и двенадцатью…. Сысоев тебя убьет. А может, меня… — Она засмеялась. У них было еще три встречи — в течение года. А потом она исчезла. Не от Валерия исчезла, а вообще. Ни родители, ни Сысоев не знали, с кем и куда она девалась….
С тех пор Бутонов женщинам почти не отказывал. Знал, что чудес не бывает, но если пребывать на грани возможного, на пределе концентрации, то и здесь, в самом телесном низу, пробивает молния, все озаряется и вспыхивает то самое чувство: нож, направленный в цель, вздрогнув, замирает в самой ее сердцевине. Вернувшись в десятом часу вечера из бухт и уложив спящих малышей, взрослые расселись на Медеиной кухне пить чай. Даже Нора, прилежная мать, согласилась уложить дочку в чужом месте, чтобы посидеть еще на Медеиной кухне.
Георгий вышел покурить. Он сидел возле дома и из темноты, как из зрительного зала на театральную сцену, смотрел в яркий прямоугольник распахнутой двери кухни. Свет был двойной и зыбкий: желтый от керосиновой лампы и низко-малиновый от очага. Прихваченные за день опасным весенним солнцем, лица казались густо нагримированными. Рядом с темной Медеей сидела светлая Нора, с заколотыми высоко волосами и подобранной челкой, — Ника велела намазать ей лицо кефиром, и оно теперь матово блестело.
Лоб ее, когда она подобрала волосы, оказался слишком высок и выпукл, как бывает у малых детей и немецких средневековых Мадонн, и этот недостаток делал ее лицо еще милей.
Еще видна была Георгию могучая спина Бутонова в розовой майке да крылатая Никина тень — гриф гитары и руки колыхались на стене. В центре стола, как драгоценный шар, стоял самовар, но чаю не варил. Хотя Георгий и провел наконец на кухню воздушку, но в этот день электричества в Поселок почему-то не подавали. Кроме света наружу выливалась еще и мелодия, выпеваемая простым и выпуклым Никиным голосом и поддерживаемая незатейливыми аккордами не ученой музыке руки.
Тогда все пели Окуджаву, а Георгий, единственный из всех, не любил этих песен. Они раздражали его манжетами и бархатом камзолов, синевой и позолотой, запахами молока и меда, всей романтической прелестью, а главное, может быть, тем, что они были пленительны, против его воли вползали в душу, долго еще звучали и оставляли в памяти какой-то след. Работа его многие годы была связана с палеозоологией, мертвейшей из наук, и это придало странную особенность его восприятию: все в мире делилось на твердое и мягкое.
Мягкое ласкало чувства, пахло, было сладким или отталкивающим — словом, было связано с эмоциональными реакциями. А твердое определяло сущность явления, было его скелетом. Георгию достаточно было взять в руки одну створку устрицы, вмурованную в склон холма где-нибудь в Фергане или здесь, под Алчаком, чтобы определить, в каком из десяти ярусов палеогена жил этот мясистый, давно исчезнувший моллюск, его крепкая мышца и примитивные нервные узлы, то есть все то, что составляло незначительную мякоть.
Так и песни эти казались Георгию мякотью, сплошной мякотью, в отличие, скажем, от песен Шуберта, в которых он чувствовал музыкальный костяк, благо что и немецкого языка он не знал. Он придавил окурок плоским камешком и вошел в кухню, сел в самый темный угол, откуда так хорошо видна была Нора с милым и сонным лицом. И его обдало вдруг жаром. А она, как будто почувствовав его мысли, прикрыла лицо прозрачными ладонями.
Юность его, с геологическими партиями, с поварихами из отчаянных местных, лаборантками и всегда готовыми подставить под комариные укусы мускулистые бедра подругами-геологинями, была давно позади.
Из армянской смеси упрямства и лени, а также из-за приверженности мифологии семьи, внушенной матерью, наперекор общепринятой легкости, всем привычкам его круга, наперекор снисходительной насмешливости друзей он хранил угрюмую верность толстой Зойке, но никогда не мог вспомнить, как ни старался, чем же она ему понравилась пятнадцать лет тому назад.
Ничего, кроме трогательного жеста складывания беленьких носочков ровненько, один на другой… И он снова вышел из кухни, чтобы отдохнуть от волнующего воздуха внутри, который вскипал пузырьками, раздражал, возбуждал. Не было на кухне и Маши. Еще с полдороги, возвращаясь, она почувствовала противную чесотку в крови и поняла, что на нее надвигается один из редких и необъяснимых приступов. Муж ее Алик, врач, размышляющий над каждой болезнью как над самостоятельной задачей, считал, что у Маши какая-то редкая форма сосудистой аллергии.
Однажды такой приступ начался на его глазах в деревне, куда они приехали справлять Новый год. Маша прикоснулась рукой к медному соску рукомойника, и он оставил след, подобный ожогу. Через два часа у нее поднялась температура, а к вечеру она вся покрылась аллергической сыпью.
На этот раз с ней происходило нечто подобное, но не от прикосновения равнодушной меди, а от мимолетного прикосновения Бутонова. Впрочем, может, просто перегрев, весеннее солнце… Но правое предплечье было багровым и слегка отекло. Едва добравшись до дому, Маша сразу же легла, укрывшись всеми попавшимися под руку одеялами, и впала в полусон.
Покуда ее тряс озноб и мучила жажда, ей снился один и тот же все повторяющийся сон, как будто она встает с постели, идет на кухню и пытается зачерпнуть из ведра, в котором воды на самом дне, и кружка только шкрябает, а вода не набирается. А одновременно с этим сами собой складывались какие-то неструганые строчки, в которых был берег, горячее солнце и неопределенное ожидание, смешанное с реальной жаждой…. А Ника занималась любимым делом обольщения, тонким, как кружево, невидимым, но осязаемым, как запах пирога от горячей плиты, мгновенно заполняющий любое пространство.
Бутонов, сидя неподвижно на середине лавки, напротив Ники, был уже у нее в руках. При всем своем незамысловатом великолепии он был простенькой дичью, отказывал женщинам редко, но в руки не давался, предпочитая разовые выступления долгосрочным отношениям.
Сейчас ему хотелось спать, и он прикидывал, не отложить ли эту рыжуху на завтра. Ника, со своей стороны, совершенно не собиралась откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня.
Она легко встала, положила гитару в кресло Медеи, которая уже ушла к себе. Бутонов смекнул, что это ему велено подождать. Женщины вошли в темный дом, заглянули в детскую. Смотреть было не на что: все спали после утомительного похода, только Лизочка, по обыкновению, дышала со сладкими вздохами.
Маленькая Таня спала поперек широченной тахты, с краю стройненько вытянулась Катя, не переставая и во сне следить за осанкой. Посреди комнаты стоял большой коммунальный горшок. Было в этом что-то неправильное, не по любимому канону, но Ника не стала кокетничать, прижалась слегка грудью к его твердой спине, обтянутой горячим розовым трикотажем. Все последующее, происходящее на Адочкиной территории, не заслуживает подробного описания.
Оба участника мероприятия остались вполне довольны. Бутонов после ухода Ники облегчился в дощатой уборной в конце участка — чего ему не удавалось сделать в течение длинного и многолюдного дня — и уснул здоровым сном. Ника вернулась домой уже по свету, спать ей совершенно не хотелось, напротив, она была полна бодрости, и тело ее, как будто благодарное ей за доставленное удовольствие, готово было к труду и веселью.
Она тщательно перемыла вчерашнюю посуду и поставила на примус кашу.

Она, напевая что-то, мешала длинной ложкой в большой кастрюле, когда вошла Медея за своей чашкой кофе. Она любила Никину голову: волосы ее были такими же пружинистыми и чуть трескучими, как у Самуила. Весь последний год я как будто все время усталая. Может, старость? Привыкла работать — холопский недуг.
Эти мимолетные фразы были самой большой интимностью, на которую Медея была способна. Ника ценила это как знак их особой близости. Вошла Маша, в куртке поверх ночной рубашки, с воспаленно-розовым лицом в мелкой точечной сыпи.
Сегодня к вечеру пройдет, — улыбнулась Маша. Жар, озноб. А теперь уже все. В кармане куртки лежала мятая бумажка, на которой было написано ночное стихотворение. Попалась рыбка на уду, по берегу хвостом забила, я все забыла, все забыла, я имя вспомнить не могу, и я на этом берегу песок сквозь пальцы просыпаю, под жарким солнцем засыпаю и, просыпаясь, снова жду.
Но на самом деле она уже все знала. После вчерашнего смутного дня и ужасной ночи наступила ясность: она влюбилась. И еще была слабость, обыкновенная слабость после подъема температуры. Александра, меняющая всю жизнь не только надоедающих ей быстро мужчин, но и профессии, познакомилась со своим третьим мужем в Малом театре, где работала с середины пятидесятых годов у старой знаменитости костюмером, а он, сидя на приличной казенной зарплате, реставрировал купленные за гроши музейные драгоценности театральной элиты, заслуженных и народных, понимавших толк в хорошей мебели.
Александра, всю жизнь легкая на любовь, была равнодушна к богатству, но обожала блеск. Брак с Алексеем Кирилловичем был недолгим — это были самые скучные три года в ее жизни, и закончились они скандально: застал-таки ее в неурочный час Алексей Кириллович с глухонемым красавцем истопником, обслуживавшим тимирязевские дачи.
Алексей Кириллович глубоко изумился и навсегда вышел вон, оставив жену в объятиях исполинского Герасима. Сандрочка плакала до самого вечера. Алексея Кирилловича видела с тех пор только один раз — на суде, когда разводились, но до самого сорок первого года получала по почте деньги. Сына Алексей Кириллович видеть не пожелал. Истопник, разумеется, был незначительным эпизодом. Были у нее разные блестящие связи: бравый летчик-испытатель, и знаменитый академик, и остроумный еврей, и неразборчивый бабник, и молодой актер, данник ранней славы и еще более раннего алкоголизма.
Вышла замуж второй раз за военного, Женю Китаева, родила от него дочь Лидию, а потом и этот брак замялся. Хоть они и не разводились, но жили порознь, и вторая дочь, Вера, родившаяся перед войной, была от другого отца — человека с таким громким именем, что Китаев скромно молчал до самой своей гибели.
Но теперь ей было уже за пятьдесят, и на огонь ее тускнеющих волос уже не летели тучи поклонников. Тогда она вздохнула и сказала себе: ну что ж, пора… обвела зорким женским взглядом окрестность и остановилась неожиданно на театральном краснодеревщике Иване Исаевиче Пряничкове.
Он был не стар, около пятидесяти, на год-другой моложе ее, роста был невысокого, но широкоплеч, волосы носил длиннее, чем принято у рабочего класса, как бы по-актерски, выбрит был всегда чисто, рубашки из-под синего халата смотрели свежие.
Идя как-то за ним по коридору, она изучала исходящий от него сложный и терпкий запах, связанный с его ремеслом: скипидар, лак, канифоль и еще что-то неизвестное, и запах показался ей даже привлекательным. Было в нем и какое-то особое достоинство, он не вписывался в обычную театральную иерархию. Ему бы занимать скромное место между машинистом сцены и гримером, а он шел по театральным коридорам, кивком отвечая на приветствия, как заслуженный, и закрывая плотно дверь в свою мастерскую, как народный.
Однажды в конце рабочего дня, когда рабочие мастерских еще не разошлись, а артисты и все те, кто нужен для ведения спектакля, уже пришли, Александра Георгиевна постучала в его дверь. Оказалось, что он не знал ее по имени, хотя она к этому времени уже три года проработала в театре.
Она рассказала ему об ореховой горке, которая осталась после покойной свекрови, бросила беглый взгляд на стены мастерской, где на полках стояли бутыли с темными и рыжими жидкостями и симметрично были развешаны и разложены инструменты.
Иван Исаевич держал бурую, с темной обводкой вокруг ногтей руку на светлой столешнице разъятого столика, гладил грубым пальцем темный выщербленный цветок, и когда Александра Георгиевна кончила свой рассказ о горке, он сказал не глядя ей в глаза:.
Он пришел к ней в Успенский переулок, где она жила в двух с половиной комнатах с двумя дочерьми, Верой и Никой, через неделю. Предложенная ему чашка бульона с куском вчерашней кулебяки и гречневая каша, сваренная как будто в русской печи, произвели глубокое впечатление на Ивана Исаевича, жившего достойно, чисто, но все же по-бобыльски, без хорошей домашней еды.
Ему понравилось то бережное движение, которым она вынула хлеб из деревянного хлебного ящика и раскрыла салфетку, в которую он был завернут. Он был из староверов, но еще в юности ушел из семьи, отказался от веры, однако, отплыв от родного берега, к другому так и не прибился и всю жизнь прожил сам с собой в ссоре, то ужасаясь совершенному бегству из родительского мира, то страдая от невозможности слиться с тысячами энергичных и оголтелых сверстников.
Его тронул этот короткий молитвенный вздох, но только много лет спустя, будучи ее мужем, он понял, что все дело было в удивительной простоте, с которой она разрешила проблему, мучившую его всю жизнь. У него понятие о правильном Боге и неправильной жизни никак не соединялось воедино, а у Сандрочки все в прекрасной простоте соединялось: и губы она красила, и наряжалась, и веселилась от души , но в свой час вздыхала и молилась, щедро вдруг кому-то помогала, плакала….
Иван Исаевич ходил на свидания к ореховой горке, заглядывая предварительно в репертуарный план, выбирая те дни, когда не давали Островского и Александра Георгиевна оставалась дома. В первый вечер она сидела за столиком, писала письма, во второй — шила дочери юбку, потом перебирала крупу и мягко мурлыкала какую-то привязчивую опереточную мелодию. Предлагала Ивану Исаевичу то чай, то ужин. Во всяком случае, она его явно предпочла бы своему основному претенденту, недавнему вдовцу, старому актеру с зычным голосом, болтливому, тщеславному и обидчивому, как гимназистка.
Нет-нет, ему кухарка нужна, а мне мужик в дом. Не пойдет…. Положение вещей представлялось ей так, что краснодеревщик у нее в кармане, но сама она колебалась: он, конечно, похож на мужика, и положительный, но все же вахлак… Тем временем он притащил откуда-то детскую кровать ладейкой. Александра вздохнула: устала от безмужья.
К тому же год назад патронесса облагодетельствовала ее дачным участком в поселке Малого театра, но дом ей в одиночку было не поднять. Все шло к одному, в пользу медлительного Ивана Исаевича, в котором тоже подспудно происходили неосознанные шевеления, приводящие одинокого мужчину к семейной жизни. Пока длилась мебельная прелюдия к их браку, он все более убеждался в исключительных достоинствах Александры Георгиевны.
Верно было то, что толстопятой его Валентине действительно до Сандрочки было далеко. Александра понимала, что взаимное присматривание затягивается, но в эту пору у нее не прошло еще ложное чувство, что она стоит во всех отношениях настолько его выше, что он за счастье должен считать ее выбор, и она медлила. Большое и неизгладимое несчастье, происшедшее в то лето, сблизило их и соединило….
Таня, жена ее сына Сергея, была генеральской дочерью, но это было не избитой характеристикой, а всего лишь знаком материального благополучия. От отца она унаследовала честолюбие, а от матери — красивый профиль. Сергей, человек щепетильный и независимый, к машине не прикасался, даже прав не имел. Водила Татьяна. Это последнее предшкольное лето их дочка Маша проводила на даче у генеральши-бабушки, Веры Ивановны, характер у которой был вздорный, истерический, что всем было прекрасно известно.
Время от времени внучка ссорилась с бабушкой и звонила в Москву родителям, чтобы ее забрали. На этот раз Маша позвонила поздним вечером из дедова кабинета, не плакала, но горько жаловалась:. А они не украдут, честное слово, не украдут…. Таня обещала забрать ее через несколько дней. Это сильно нарушало семейные планы.
Они собирались всей семьей, взяв Нику, ехать через две недели в Крым, к Медее: и отпуск был в графике, и с Медеей уговорено; словом, на более раннее время поездку передвинуть было невозможно. Но Сергей не очень хотел забирать дочку от генералов, как называл он женину родню, жалел мать, у которой дом только-только отстроился, не говоря уж о том, что генеральская дача была огромная, с прислугой, а у Сандры — две комнаты с верандой.
Они взяли в середине недели отгул и рано утром выехали. До дачи они не доехали: пьяный водитель грузовика, выскочив на встречную полосу, врезался в их машину, и оба они мгновенно погибли от лобового столкновения.
Увидев его через прозрачную занавеску, Александра вышла на крыльцо и остановилась на верхней ступени, ожидая известия, которое уже донеслось до нее бессловесной ужасной тяжестью по густеющему вечернему воздуху. И генерал замедлил свое движение на дорожке, замедлилось время и вовсе остановилось. Только качели с сидящей на них Никой не остановились окончательно, а медленно-медленно совершали свое скользящее движение вниз от самой верхней точки.
И Александра увидела в этом остановившемся времени большой кусок своей и Сережиной жизни, и даже своего первого мужа, Алексея Кирилловича, в то лето на Карадагской станции, и новорожденного Сережу в Медеиных руках, и их общий отъезд в Москву в дорогом старинном вагоне, и Сережины первые шаги на тимирязевской даче… и его в курточке, стриженного наголо, когда он пошел в школу, и множество, множество как будто забытых фотографий увидела Александра, пока генерал стоял на дорожке, с поднятой в шагу ногой.
Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта. Обновить браузер. С намерением затащить в постель, разумеется. Девушки относятся к брачным ритуалам с религиозным трепетом, а глумиться над чувствами верующих — недостойно высокого звания мужчины. Обещай ей что угодно: бриллианты, домик в деревне, прокатить на шарабане, но не трогай святого.
Другое дело, если ты действительно уверен, что перед тобой та самая. Тогда можно. Но делай это осмысленно, а не после часа барахтаний в простынях, когда она, вцепившись в трусы, отбивается из последних сил. Священное табу, соблюдаемое веками. Девушка друга — не девушка. С ней даже нельзя целоваться. С ней можно потанцевать. Даже если ты воспылал серьезными чувствами, а он просто развлекается.
Забудь, уезжай в другой город, застрелись, но на девушку друга не покушайся разве что в рамках согласованного обмена партнершами. А вот девушка друга твоего друга — это не табу. И если опять-таки возникли чувства, можешь смело включаться в естественный отбор. Непростительная роскошь в армии, в походе и в Эфиопии. В мирных же условиях надо позволять себе аристократические замашки хотя бы в мелочах. Иначе не видать тебе своего острова, конюшни и коллекции гоночных автомобилей.
Друзья, конечно, любят тебя, но они не всегда разделяют твое увлечение фотографиями еды. И видов из самолета. И снимками твоих детей. И селфи. И репостами фальшивых цитат Стива Джобса… Остановись! Подумай, насколько приятно будет поделиться впечатлениями не через бездушный «Фейсбук» запрещенная в России экстремистская организация , а при личной встрече.
Тем более что к тому времени ты уже поймешь, что большая часть этих вещей неинтересна даже тебе самому. Порядочные дамы в момент расчетов уходят в дамскую комнату, чтобы не стеснять тебя. И ты уже можешь спуститься из небесных сфер на грешную землю, спокойно проверить счет и вдумчиво отсчитать купюры. Не ушла? Постарайся проделать финансовые манипуляции, загородившись меню.
Во время романтического ужина такого понятия, как «деньги», просто не существует. Делить один зонт на двоих, как и одеяло, лучше с девушкой. Идти рядом с ней, соприкасаясь локтями, наступая в одни и те же лужи, — что может быть романтичнее?
А вот если у вас один зонт на двоих с другом, правильнее будет промокнуть обоим. Здесь ключевое понятие — цена минуты твоего времени.
Возьми свою зарплату, раздели на 10 примерное количество рабочих минут в месяц. Посчитай, сколько тебе стоять в очереди. Переведи время в деньги.
Подумай: готов бы ты был отдать эту сумму, чтобы пройти без очереди? Если нет — значит, стоять западло, зайдешь в следующий раз. Да, копейка рубль бережет, и нагнуться за своими кровно заработанными не западло. Но и копейка, и рубль сейчас не деньги. Другое дело — десять рублей!
Это уже не мелочь, это деньги, на них можно купить, например, коробок спичек! Подбирать деньги — не западло. Метросексуальность — это, конечно, хорошо, но и у нее должны быть границы. По нашему мнению, граница проходит именно здесь. И пусть девушкам нравятся мужские ягодицы, мы не будем демонстрировать их всему пляжу.
Оружие мужчины — мозг и бицепсы. Если уж травить свой организм, так хотя бы получать от этого максимум удовольствия. Курить на ходу, пить на ходу, есть на ходу и любить на ходу в кайф, когда идешь не ты, а поезд. Не дала свой номер и не просит твоего?
Забудь и не унижайся: «Нет, ты все-таки запиши, мало ли что! Имей мужество смотреть правде в глаза. Методом «шаг вперед, два назад» по карьерной лестнице не поднимешься. Если ты себя не ценишь, тебя никто не оценит. И работодатель отнесется к тебе серьезнее, ознакомившись с таким принципом. Но тебе могут пообещать прибавку в перспективе. Не соглашайся, пока не подпишутся кровью. Супруги сами между собой разберутся и помирятся.
А ты, заняв чью-либо позицию, в итоге станешь неприятен обоим. Твое дело — быстренько покинуть поле боя. Иногда это, кстати, становится сигналом для прекращения семейной разборки. Это негигиенично, к тому же в этом есть что-то извращенное — все равно что пожимать мужчине пенис. Даже если он помыл руки, они еще хранят тепло вышеупомянутой части его тела. Так что на чью-то неучтиво протянутую пятерню в сортире ты смело можешь отреагировать лишь кивком головы. Логичным завершением может стать сеанс групповой мастурбации.
Как говорил белогвардеец Лемке, «это нужно не всем, это нужно одному». В крайнем случае, двоим, и этот второй должен быть женщиной. Раздеваться самому вообще западло как, впрочем, убирать, мыть посуду и ходить в магазин, но сейчас не об этом. Лучше всего постепенно раздевать друг друга, а в идеале предоставить это священнодейство девушке. Но жизнь далека от идеала, барышни норовят красиво отдаться победителю, не заботясь о молниях, пряжках и застежках.
В этом случае, дабы не портить красоту момента, стоит сосредоточиться на ее одежде, третьей рукой незаметно скидывая с себя рубашки и носки. Раздевшись раньше времени, ты будешь выглядеть смешно, а смех не идет на пользу сексу. Все равно рано или поздно к этому приходят все.
Не всем везет с первого раза и даже с пятого. Но попытка выбрать из трех с половиной миллиардов женщин одну — сама по себе достойна уважения. Те, кто эту попытку предпринимал, никогда не будут глумиться над «женатиками».
А те, кто это делает, явно отстают в своем эмоциональном развитии. Рядом с собой водитель сажает свою девушку, приятеля или штурмана.